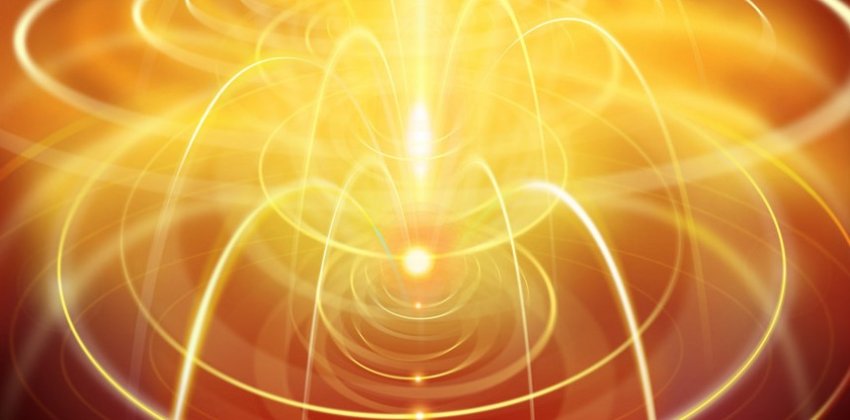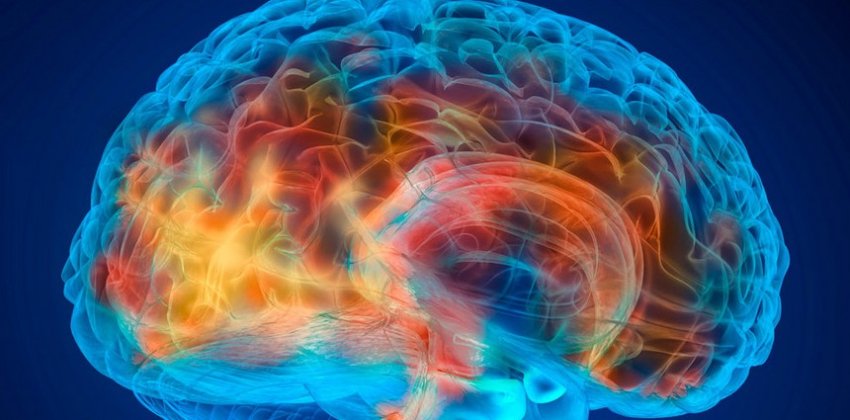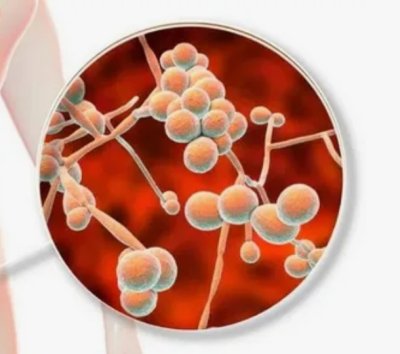Школьные психологи - о своей работе - Женский блог.
"Родители ждут, что я “исправлю” их ребенка". Горы отчетов, низкая зарплата и проблемы, которые невозможно решить.
«Один из подростков забрался на 26-й этаж высотки рядом со школой и устроил фотосессию, свисая с парапета на одной руке». «Берут фотографию девочки, постят в соцсети и пишут обидные комментарии — самооценка рушится». «Коллеги не всегда понимали, чем занимается школьный психолог». Школьные психологи анонимно и честно рассказали «Правмиру» о своей работе.
«Подросток сделал фотосессию на высотке, повиснув на парапете»
Владимир, Москва. Стаж работы: 1 год, 860 учеников:
— Я работал школьным психологом один учебный год: пришел в конце ноября и доработал до конца июня. Сейчас перешел в колледж. В школе я проводил коррекционные занятия с детьми с ОВЗ, работал с группой риска, составлял характеристики на учеников и проводил консультации. Нужно было пройти по всем параллелям, выделить детей из группы риска и следить за их поведением. Сюда попадали случаи драк, хулиганства, вандализма, рискованного поведения.
Помню, один из подростков залез на 26-й этаж высотки рядом со школой и устроил фотосессию, свисая с парапета на одной руке. Риск трагедии был огромный. Мне поручили работать с ним. Сначала мы просто знакомились, разговаривали «ни о чем», выстраивали доверие. Затем я проводил диагностику, выяснял уровень агрессии, склонность к рискованному поведению. На следующих встречах обсуждали причины и последствия его поступков. Таких детей нельзя переделать за один разговор — работа требует систематического наблюдения и регулярных встреч. Постепенно меняется мировосприятие, ребенок начинает по-другому смотреть на свои поступки.
В целом причины рискованного поведения подростков связаны со спецификой возраста.
Многие делят мир на «черное» и «белое»: сегодня солнце — значит, все прекрасно, завтра что-то не получилось — и уже «все плохо».
Отсюда — демонстративность, экзальтированность, желание доказать свою смелость и значимость. Чаще всего это стремление привлечь внимание.
Были ситуации панических атак. У одной пятиклассницы случился сильный приступ тревоги, пришлось быстро приводить ее в чувство: беседовали, рисовали, чтобы отвлечь. Другой девочке стало плохо перед выступлением в актовом зале — она была на грани истерики, и тоже пришлось экстренно помогать.
Дети редко сами приходят к психологу. Чаще приходится проявлять инициативу. Иногда школьники воспринимают кабинет психолога как место, где можно прогулять урок. Но если контакт выстраивается, доверие появляется.
Родители тоже ко мне обращались, в основном по вопросам рискованного поведения. Один из мальчиков устраивал драки, и мама искала советы, как с ним справиться. Мы пришли к тому, что у ребенка не было чувства ответственности: он не имел домашних обязанностей. Я рекомендовал ввести их, чтобы формировалась дисциплина и ответственность за свои поступки.
В школе первые трудности возникли не с детьми, а с администрацией. Руководство меня обесценивало, не всегда понимало специфику работы психолога и воспринимало мою деятельность как «сидение в кабинете». Меня пытались привлечь к обязанностям, которые не входили в договор: ставить дежурным учителем, выводить расшумевшихся детей во двор, чтобы они выплеснули энергию.
По сути, администрация видела во мне скорее вожатого, чем специалиста.
Это сильно било и по профессиональному самосознанию, и по внутреннему ощущению ценности работы.
В итоге я ушел из школы из-за конфликта с администрацией, который обострился к концу года. Параллельно предложили работу в колледже, и я решил двигаться дальше. Не могу сказать, что в школе работать не стоит — многое зависит от отношений с руководством. У меня они не сложились.
У коллег из других городов похожие трудности. Например, в Королеве у знакомой психолога помимо давления администрации еще и зарплата была очень низкой — около 15 тысяч до вычета. При этом по договору нужно было отработать три года. Услышав это, я понял, что моя ситуация далеко не худшая.
Работа школьного психолога — это постоянная профилактика, сопровождение, поддержка детей и взрослых. Часто нас воспринимают не как специалистов, а как «подсобных работников». Но на самом деле психолог в школе — это тот, кто помогает ребенку не сорваться, не остаться один на один со своими страхами и проблемами.
«Мне пришлось объяснять родителям, что такое личные границы»
Анастасия, Нижняя Тура, Свердловская область. Стаж работы: 8 лет, около 430 учеников
— Чаще всего школьники приходят к психологу с просьбой помочь наладить отношения с родителями. Дом остается самой чувствительной темой: дети жалуются на отсутствие понимания, на равнодушие, на излишнюю критику. Реже звучат просьбы о помощи в общении со сверстниками или в решении школьных конфликтов. Еще реже — проблемы с учителями. В этом случае срабатывает недоверие: дети убеждены, что все сказанное психолог расскажет педагогам.
Работа школьного психолога всегда связана с трудностями детей и подростков. Сегодня эти трудности мало изменились, но есть заметная тенденция — меняется общение со взрослыми. Все чаще дети разговаривают с учителями как с равными. Внешне это выглядит как демонстрация независимости, но на деле нередко превращается в грубость. Ребенок спорит, пререкается, игнорирует замечания, иногда даже позволяет себе ругаться при педагоге.
В работе с ребенком важнее всего доверие. Никогда не стоит заставлять приходить в кабинет. Но если видно, что ребенок ищет поддержки и не решается войти, можно пригласить после уроков. Достаточно дать понять: дверь всегда открыта, помощь всегда рядом.
Один случай из моей практики особенно показателен. Девочка обратилась с проблемой в отношениях с матерью. Ее мучило то, что она слышала интимную жизнь мамы и отчима. В этом случае мы работали вместе с семьей. Я объяснила, что такое личные границы, зачем они нужны. Мы выработали правила для обеих сторон. Девочка перестала чувствовать себя беспомощной, мама научилась учитывать ее переживания.
Семейный конфликт был разрешен.
Работа школьного психолога редко сводится к разовым консультациям. В первую очередь это профилактика: диагностики, занятия, тренинги, беседы. Это помощь детям, родителям, педагогам.
Сложнее всего работать со взрослыми. Педагог или родитель уже имеет свои установки. Менять их трудно. Но без участия взрослых изменить ребенка невозможно. Родители чаще всего обращаются из-за низкой успеваемости или проблемного поведения. Но многие ждут чуда: что психолог быстро «переделает» ребенка. А собственных усилий прилагать не хотят.
«Под фото девочки пишут обидные комментарии — самооценка рушится мгновенно»
Наталья, Москва. Стаж работы: 31 год, более 3 тысяч детей:
— Я работаю в школе с 1990 года, получается уже 35 лет, из них 31 год именно как педагог-психолог. Сейчас я возглавляю социально-психологическую службу, и в моей зоне ответственности больше 3 000 детей — и в школах, и в детских садах.
Запоминающихся случаев за эти годы очень много. Например, был мальчик — худенький, на вид совсем слабый, а на деле очень агрессивный, трудно справлялся с эмоциями. Он подрался, и с ним пришел поговорить участковый. Тот, увидев ребенка, даже не поверил: «Вот этот доходяга двоих избил?» Пришлось объяснять, что сила духа и характер — совсем не то же самое, что телосложение. Такие моменты учат не судить по внешности.
В последние десять лет особое место занимает работа с интернет-реальностью.
Дети часто становятся жертвами кибербуллинга: берут фотографию девочки, начинают писать обидные комментарии, распространять в сети. Самооценка рушится мгновенно.
Мы работаем по двум направлениям: восстанавливаем самооценку и учим различать мнение и факт. «Если кто-то сказал, что у тебя ноги толстые, это факт или мнение?» — и дальше разбираем. Кроме того, важно научить правилам безопасности: закрывать аккаунты, рассказывать взрослым, если случается шантаж или угрозы. Главная установка — не молчать.
Если говорить о запросах детей, то они, на мой взгляд, не изменились радикально за эти годы. Подростков все так же волнуют отношения со сверстниками, с родителями, переживания из-за экзаменов. Конечно, появление интернета принесло новые сложности — кибербуллинг, группы с опасным поведением, — но базовые проблемы остаются прежними: поиск себя в мире, страхи, тревожность, желание быть принятым.
Когда я только начинала работать, трудность была в том, что коллеги не всегда понимали, чем занимается школьный психолог.
Приходилось тратить много времени на объяснения: что входит в наши задачи, а что относится к сфере клинических или семейных психологов.
До сих пор встречается это недоумение: родители боятся, что ребенок расскажет «лишнее», или учителя думают, что психолог будет «лезть» в семью. Но школьный психолог прежде всего работает с ситуациями в школе: со сверстниками, учителями, с проблемами обучения и адаптации. Семейные вопросы — это сфера других специалистов.
Работа строится и через профилактику, и через консультации. Но, по закону, индивидуально мы можем работать с детьми только с письменного разрешения родителей. Поэтому я обычно прошу родителей подписать согласие заранее, «на всякий случай». Если ребенок пришел без разрешения, я сначала должна его получить.
Важная часть работы — это знакомство с детьми через адаптационные занятия в первых, пятых, десятых классах. Мы играем, знакомимся, я рассказываю, что психолог — это не психиатр, а человек, который помогает искать друзей, решать конфликты, находить таланты, готовиться к выбору профессии. Когда дети видят, что со мной можно разговаривать безопасно, они начинают обращаться сами — обычно уже с третьего класса.
Как понять, что ребенку нужна помощь? Прежде всего по резким изменениям в поведении.
Если веселый и активный ребенок вдруг замыкается, начинает часто плакать, жалуется на головные боли только в учебные дни — скорее всего, это психосоматические проявления
тревоги.
Вообще любые нетипичные формы поведения — сигнал, что нужна консультация.
Что касается условий работы, то самой большой проблемой остается нагрузка. До сих пор нет четкой нормы, сколько детей приходится на одну ставку психолога. Есть школы, где у специалиста 250 учеников — и это роскошь, а есть такие, где 700 или даже тысяча. Понятно, что в таких условиях полноценную помощь всем оказать невозможно.
Еще одна сложность — работа с детьми с ОВЗ. Родители и школа часто ждут от психолога чуда: что ребенок с аутизмом или ДЦП «станет как все». Но это иллюзия. Мы не можем вылечить, мы можем только помочь ребенку адаптироваться, снизить тревогу, научить базовым навыкам общения, а главное — помочь классу принять его. Для меня победа — это не «исцеление», а то, что одноклассники не отвергают ребенка, а поддерживают.
Обычный день школьного психолога строится так: утром можно встретиться с родителями, затем во время уроков мы консультируем учителей, готовим материалы. Основная работа начинается после уроков: групповые занятия по профилактике, тренинги на коммуникацию, маленькие группы коррекционной работы, диагностика. Мы выявляем детей с трудностями, составляем программы развития, учим общению, управлению эмоциями, социальной адаптации.
«Если бы я заполняла все бумаги, мне некогда было бы говорить с детьми»
Киштя, Элиста. Стаж работы школьным психологом: 9 месяцев, 300 учеников:
— Я работаю школьным психологом девять месяцев, а общий стаж в профессии у меня уже около шести лет. До этого я трудилась в МЧС и службе 112, а сейчас живу и работаю в Элисте, в небольшой школе: у нас около 300 учеников и 45 педагогов.
Поначалу в школе было непросто, ведь до моего прихода психологи постоянно менялись. Один специалист проработал всего три месяца и ушел, и в середине учебного года появилась я. Дети встретили меня настороженно, с легкой грустью и равнодушием: они только привыкли к прежнему психологу, и им снова пришлось привыкать к новому. Некоторые категорически отказывались работать со мной или посещать уроки психологии.
Несмотря на это, я начала планомерную работу по установлению доверительного, позитивного контакта с учениками. Постоянно показывала детям, их родителям и педагогам, что в школе есть психолог — это я, и ко мне можно и нужно обращаться за помощью. Постепенно отношения стали теплыми и доверительными. Сейчас мой кабинет всегда открыт, и туда заходят разные ребята: кто-то приходит на переменах «потусоваться», поделиться новостями, пофилософствовать или просто пошутить, другие — чтобы отдохнуть, посидеть в тишине, порисовать, полепить или собраться с мыслями.
Иногда визит в кабинет — это способ привлечь внимание и показать, что в жизни ребенка происходит что-то важное. Ведь не все могут сразу сформулировать свой запрос, и это совершенно нормально. Мы разговариваем, я задаю вопросы, и постепенно становится понятно, что именно волнует ученика.
Я стараюсь всегда быть рядом, «держать руку на пульсе»: наблюдаю за настроением детей, их поведением даже в коридорах, перекидываюсь парой фраз, просто интересуюсь делами.
Важно, чтобы у школьников закрепилась установка: психолог рядом, он открыт, он обращает внимание, он слышит.
В моей практике случались и необычные случаи. Например, ребенок однажды рассказал, что в его семье не принято говорить слова любви, не обнимают и не целуют, и он уже привык к этому. Такие истории очень трогают и напоминают, насколько разной может быть жизнь детей.
Так как я не только школьный психолог, но и руководитель службы примирения, то чаще всего дети обращаются ко мне по поводу конфликтов — с одноклассниками, родителями, близкими, реже с педагогами. Нередко я выступаю в роли медиатора, и по завершении процесса стороны подписывают договор о примирении. Обращаются и по поводу травли, кибербуллинга, где я работаю уже совместно с администрацией, классными руководителями, родителями, а также в рамках антибуллинговой программы «ТРАВЛИ.NET».
Немало детей приходит с личными переживаниями. Это чувство одиночества, отсутствие друзей или сложности в дружеских отношениях, переживание влюбленности, низкая самооценка, неуверенность. Часто встречаются страхи: темноты, страшных роликов в интернете, публичных выступлений. У некоторых наблюдается эмоциональная неустойчивость — плаксивость, грусть, вспышки гнева, трудности с самоконтролем. Немало запросов связано с детско-родительскими отношениями. При этом учебная успеваемость, память, внимание или зависимости — темы, с которыми чаще обращаются родители, а не сами дети.
Когда ребенок приходит ко мне, я всегда благодарю его за смелость и первый шаг. Объясняю, что здесь его никто не будет оценивать или осуждать, он может выговориться и быть услышанным. Я всегда готова выдержать любые эмоции — и для этого на столе стоит коробочка с платочками.
Я также рассказываю, где еще можно получить помощь: на детском телефоне доверия, в дистанционных службах, а еще через мой канал «Школьный психолог», где можно задать вопрос онлайн. И всегда подчеркиваю: выход есть из любой ситуации.
Особенность работы школьного психолога заключается в том, что он является своеобразным буфером и проводником между учениками, родителями, учителями, администрацией школы и другими участниками образовательного процесса. На первом месте всегда стоит психическое и психологическое здоровье учеников.
Поэтому нередко психолога вызывают на следственные мероприятия или судебные заседания, если что-то произошло с детьми. Это очень тяжелая сторона профессии: такие процедуры сами по себе непростые, а вызов может поступить в любое время, чаще всего нерабочее.
Иногда после полного дня в школе приходится провести весь вечер или даже ночь в Следственном комитете, когда дома ждет семья и маленькие дети. И даже летом, во время отпуска, звонки не прекращаются, потому что происшествия в школах случаются всегда. Было бы правильно, если бы следственные органы имели своих детских психологов и школьных специалистов не привлекали к этим мероприятиям.
Вторая особенность работы — огромная бюрократия.
Отчет о каждом шаге, планы, справки, таблицы — столько бумаг, что если вести документацию досконально и идеально, то не останется времени просто поговорить с учеником.
Третья особенность — это заработная плата.
Если сравнить расценки на услуги частных психологов и объем их работы, разница становится очевидной. Работа школьного психолога напоминает название корейского фильма «Все, везде и сразу». Нужно уметь все, быть везде и решать все прямо сейчас.
Многие мои коллеги берут на себя еще и классное руководство или дополнительные обязанности, чтобы заработать больше. Но в этом случае страдает качество работы, ведь внимание психолога распыляется. Я убеждена, что педагог-психолог должен заниматься только своей непосредственной деятельностью, хотя понимаю, что у всех есть семьи и материальные нужды.
Четвертая особенность заключается в том, что школьный психолог не обладает такой свободой, как специалист в частной практике. Здесь неизбежно переплетаются педагогика и психология. Иногда встречается и непонимание со стороны родителей: «А зачем нужен психолог, раньше и без них обходились». Эти стереотипы постепенно развенчиваются, когда родители видят результат плодотворной работы.
Есть и заключительная, положительная особенность. Несмотря на трудности, именно в школе можно получить столько теплых слов, обнимашек, детских рисунков, искреннего смеха и улыбок. Такого не встретить нигде.
Иногда от психолога ждут чуда. Бывает, родители или педагоги говорят: «сделайте что-нибудь», «просканируйте своим взглядом», «воздействуйте вашими методами». А однажды родитель возмутился, что я якобы ставлю диагноз по телефону, хотя я всего лишь спросила, как у ребенка дела. Я всегда подчеркиваю, что я не волшебник и не врач. Я не могу одним щелчком изменить ребенка, всю ситуацию или целый класс. В каждом случае работа строится индивидуально, постепенно, и включает в себя взаимодействие не только с самим ребенком, но и с его окружением.
Есть ситуации, которые я помню особенно ярко. Однажды после консультации ученик сказал, что даже не знал, что можно просто говорить — и тебя будут слушать. Для него это стало новым опытом, хотя он уже был старшеклассником. А педагог после медиации в конфликте призналась, что даже не представляла, что можно спокойно обсудить ситуацию вместе и найти решение.
«Родители ждут, что я “исправлю ребенка”»
Людмила, Москва. Стаж работы: 15 лет, около 1000 учеников:
— Когда только начинала, самые большие трудности были связаны не столько с детьми, сколько с родителями. У родителей часто свое видение ситуации: например, ребенок объективно не справляется с основной образовательной программой, требуется перевод на адаптированную, а семья категорически против. Приходится объяснять, что адаптированные программы бывают разные, они не лишают ребенка будущего, а дают возможность усваивать материал в своем темпе.
Иногда взрослые не хотят признавать, что у ребенка есть особенности или трудности.
В таких случаях я стараюсь опираться на факты: результаты обследований, заключения специалистов, данные наблюдений. Например, если речь идет о ребенке с повторяющимися движениями, ритуалами или другими симптомами, я объясняю, что это не капризы, а проявления, требующие внимания.
Когда подросток вдруг резко меняется — снижается успеваемость, появляются трудности в поведении или общении, — это сигнал, что ему нужна помощь. Лучшие результаты бывают, когда удается организовать совместные консультации: ребенок, родители и психолог вместе обсуждают, что происходит и что можно изменить.
За 15 лет сами проблемы детей почти не изменились. У младших это конфликты со сверстниками, трудности адаптации в детском саду или начальной школе. У подростков на первый план выходят отношения с друзьями, с коллективом, с родителями. С годами добавился фактор виртуальной среды: дети все чаще сталкиваются с неприятными или даже опасными ситуациями в интернете.
В школе, где я работаю, около тысячи учеников. Из них напрямую обращаются немногие, но чем старше становится ребенок, тем больше вероятность, что он сам захочет поговорить с психологом. Иногда я инициирую контакт через простые тесты, игровые методики, чтобы детям было интересно. В подростковом возрасте главные запросы связаны с экзаменами, тревожностью, отношениями с матерью и отцом.
Я не даю готовых рецептов, а выстраиваю цикл занятий. На них ребенок учится справляться со страхами, тревогами, учится верить в собственные силы. Иногда мы используем творческие техники: рисование, лепку, обсуждение образов. Самое важное, чтобы страх перестал быть внутренним «монстром», о котором никто не знает. Когда ребенок может обсудить свои переживания, тревога уменьшается, появляется чувство уверенности.
Родителям я объясняю, что постоянная критика мешает ребенку, снижает его уверенность. Гораздо полезнее конструктивная обратная связь: не просто «у тебя не получилось», а «посмотри, вот здесь можно попробовать по-другому». Взрослые должны замечать
сильные стороны ребенка, поддерживать его увлечения, будь то музыка, спорт или творчество.
Мой рабочий день всегда насыщен. Утром бывают диагностики, наблюдения на уроках, в течение дня — индивидуальные консультации, групповые занятия, встречи с педагогами. Раз в месяц или чаще — собрания с родителями. Иногда приходится подключать комиссии, если речь идет о серьезных трудностях и переводе на другие программы. Работа объемная, но она приносит результат: когда ребенок справляется с тревогой, когда родители начинают слышать своего сына или дочь, когда в классе удается снизить конфликтность.
Чаще всего родители приходят с жалобами на поведение или низкую успеваемость. Иногда ждут, что психолог «быстро исправит ребенка». Но без участия семьи никакая работа не будет эффективной. Важно сотрудничество родителей, ребенка, учителей и психолога. Только тогда появляются настоящие изменения.
Смотрите также: